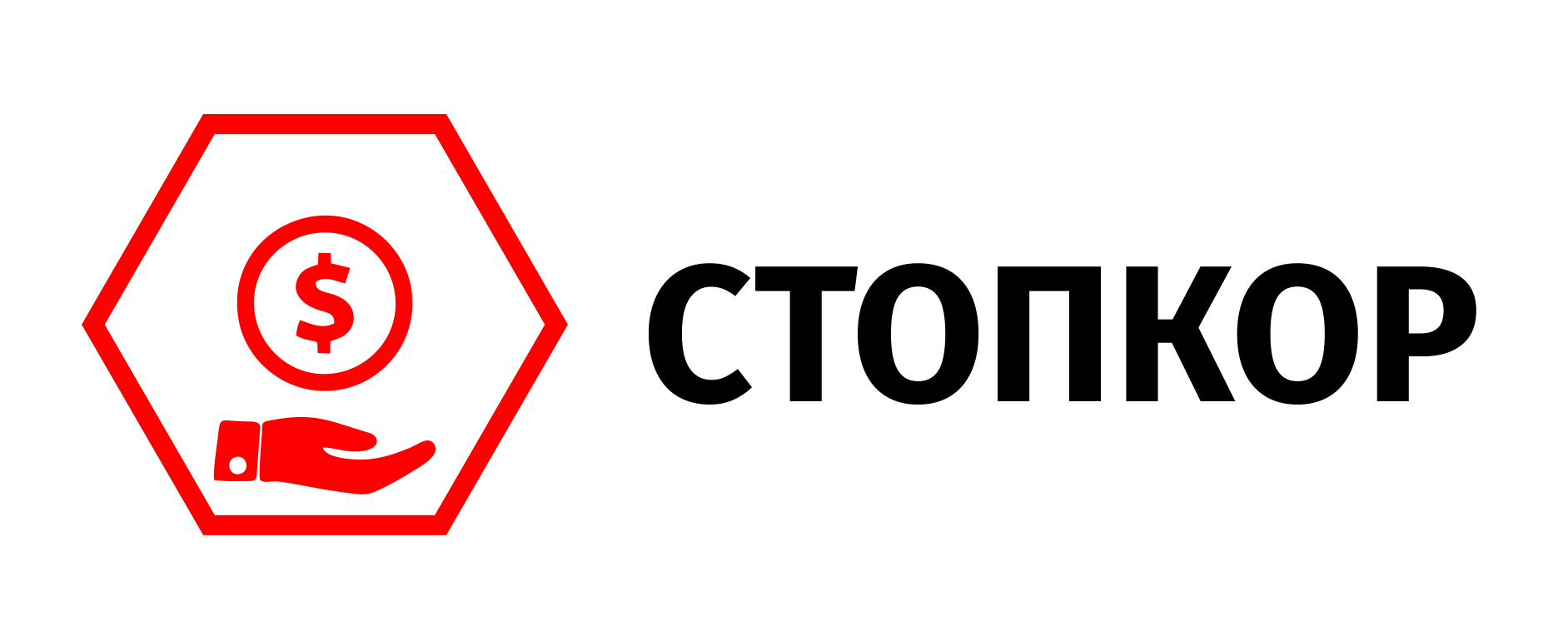Українською читайте згодом.
Свою первую пересадку мы сделали еще в 2001 году. А потом был 15-летний перерыв. Так получилось, что в Украине просто поставили крест на трансплантологии
– Борис Михайлович, добрый вечер.
– Здравствуйте.
– Я вас рада видеть, как всегда. Начну с моего любимого вопроса. Всегда, когда мы с вами встречаемся, я сначала спрашиваю: Борис Михайлович, вы посчитали, сколько человеческих жизней спасли?
– Я подсчитываю периодически. И на сегодня эта цифра приближается к 14 тысячам.
– То есть лично вы, оперируя, спасли 14 тысяч жизней?
– Да. Это только моих личных операций. Я не считаю количество ассистенций. Это только мои личные операции.
– По сути, вы продолжили жизнь, дали жизнь целому городу. Что вы чувствуете, понимая это? Если всех ваших пациентов собрать, получится стадион.
– Ну это три зала «Украина». Мне повезло в жизни. Мне Бог дал возможность быть настолько полезным и спасать людям жизни. Это далеко не каждому дается. Я не знаю, за какие заслуги, но, видимо, что-то знают наверху – и дали мне возможность заниматься таким благородным, нужным и полезным делом. Я это очень ценю, об этом никогда не забываю и никогда не изменял своей профессии.
– В этом году вы сделали уже семь пересадок сердца.
– Да.
– Насколько это тяжелая операция? Насколько она вообще для Украины уникальная?
– Свою первую пересадку мы сделали еще в 2001 году. Я был совсем молодой и не понимал, чего мы натворили. А потом был 15-летний перерыв. Так получилось, что в Украине просто поставили крест на трансплантологии. Были когда-то судебные дела по институту Шалимова – все были напуганы, был кризис во всей трансплантологии. И в декабре 2020 года Олег Самчук, главный врач ковельской больницы, не зная, какие трудности его ждут на этом пути… У молодых нет чувства опасности, и они идут вброд там, где могут быть крокодилы… И некоторым удается этот брод перейти успешно.
– Не встретиться с ними.
– Да. И вот этот молодой человек решил, что в ковельской больнице должна быть трансплантология. Получил лицензию, пригласил меня. И первый же донор, который у них появился официально, – была констатирована смерть мозга, получили разрешение, все по закону… Он пригласил меня, чтобы мы сделали пересадку сердца. Мы загрузили три машины оборудования, хотя никто не верил в это. Я сам плохо представлял, что это возможно. Но тем не менее мы сделали одну пересадку. Через месяц он позвонил опять: «У нас есть донор». Мы сделали еще одну пересадку. После этого его заметили, пригласили во Львов. И назначили главным врачом самой крупной больницы в Украине – львовской больницы скорой помощи. Там около тысячи коек, наверное.
Мы за этот год еще три трансплантации сделали на базе львовской больницы скорой помощи. Так что иногда молодой человек открывает двери тем, кто уже имеют определенный опыт. А вслед за ним это стало не то чтобы модным, но востребованным. И сейчас огромное количество больниц по всем регионам получают лицензии. Начала работать наша больница скорой помощи – мы уже две пересадки сделали благодаря нашим коллегам.
– По соседству, да?
– Да. И практически неделю назад сделали еще одну трансплантацию – седьмую по счету. Так что все поняли, что это возможно. К сожалению, мы пока единственные, кто в Украине делает пересадки сердца.
– Я правильно понимаю, что законодательные изменения произошли недавно?
– Пока не произошли. Мы пока работаем по старому закону. Уже два года закон откладывается из-за того, что новый закон предполагает существование реестра доноров и реестра реципиентов. И в 2017 году, когда он должен был вводиться, было выделено 26 млн грн, которые благополучно испарились в руках Линчевского и Супрун. Реестр так и не появился, денег тоже нет. Было открыто несколько уголовных дел, но поскольку эти люди сегодня ненаказуемы, закон дважды уже откладывался. Два года из-за отсутствия реестра закон откладывался. Может быть, с 1 января он вступит в силу и начнет работать.
– Хорошо. Если простым языком объяснить, что такое пересадить человеку сердце?
– Есть люди, у которых свое сердце перестает выполнять свою насосную функцию. В норме левый желудочек должен перекачивать пять литров крови в минуту для того, чтобы обеспечить кровью, кислородом и всеми питательными веществами все органы: мозг, печень, почки и так далее. При определенных заболеваниях сердце перестает прокачивать достаточное количество крови. Оно перерастягивается, увеличивается и качает не пять литров в минуту, а два. И человек начинает медленно погибать от гипоксии – от нехватки кислорода. Это довольно мучительная смерть. Когда человек задыхается, спит сидя, не может лечь, у него набирается жидкость по всему организму. И этих людей не могут вылечить какими-то лекарствами, какими-то другими операциями. У них один путь – только заменить уже не работающее или совсем плохо работающее сердце. Заменить его можно только донорским сердцем. Временно можно поставить механическое. Что мы тоже делаем иногда в качестве моста к трансплантации, пока нет донора.
Доноры – люди, которые погибли в силу каких-то обстоятельств. Последний случай – огнестрельное ранение в голову. Человек свел счеты с жизнью. Предыдущий случай – разорвавшаяся аневризма мозговой артерии и обширный геморрагический инсульт с вклинением мозга. То есть травмы, не совместимые с жизнью. Сердце имеет свой водитель ритма. Когда мозг уже погиб, сердце продолжает какое-то время работать. Потому что в сердце есть свой электрический генератор, который продуцирует электрические импульсы, – и сердце продолжает сокращаться. У нас есть несколько часов, как правило, а иногда дней, между тем моментом, когда наступила смерть мозга и пока продолжает биться сердце. И вот в этот короткий промежуток, если мы уже констатировали смерть мозга и получили разрешение у родственников, мы можем забрать сердце, печень, почки, поджелудочную железу, роговицу глаза и многое другое для того, чтобы спасти жизни другим людям. Последний раз взяли две почки, печень и сердце – и, таким образом, спасли четыре жизни. Вот что такое трансплантология. Это не наука о заборе органов – это наука о том, как спасать безнадежно больных людей.
– Сколько было вашему самому маленькому пациенту?
– Самый маленький пациент, которого мне пришлось оперировать, весил 600 г.
– Я не представляю.
– Это даже не цыпленок. Если вы хозяйка, вы представляете себе цыпленка. Да?
– Я хозяйка такая себе, но цыпленка…
– Ну вот 600 г. Это самый маленький ребенок. Он родился пятимесячным.
– И сердце надо было оперировать?
– Да, у него был порок сердца, который нужно было оперировать. Мы его даже не завозили в операционную – я его оперировал прямо в реанимации.
Условия в Украине – хуже некуда. Я последний раз был в Грузии год – полтора назад. Я за три операции, сделанных там в частной клинике, получил свою годовую зарплату в Украине
– Страшно было?
– Всегда страшно оперировать таких малюток. Но это моя первая специализация – 13 лет я оперировал только детей. Поэтому для меня это не было что-то необычное. Просто ткани у этих детей такие нежные, что любое неосторожное движение вызывает повреждение. Поэтому все манипуляции у таких детей должны быть очень-очень аккуратными.
– Борис Михайлович, а что самое страшное в операциях?
– Чувство ответственности, которое над тобой довлеет. Как вам объяснить? Государство, давая диплом хирургу, разрешает ему разрезать человека… Вот вы не можете просто взять и разрезать человека, а я могу. Мне государство дало такое право: разрезать человека, остановить сердце и сделать какой-то ремонт в этом сердце, а потом запустить. Да, работает целая команда, но отвечает всегда хирург. Он берет на себя ответственность за все. Даже если кто-то накосячит из твоей команды, все равно отвечаешь ты. Ты разговариваешь с родственниками, берешь на себя ответственность и отвечаешь за конечный результат. Ты дирижер этого оркестра. Поэтому над тобой довлеет это чувство. Ты знаешь, что за дверями операционной стоят родственники и ждут – вывезут живым и здоровым их папу, сына, дочку или не вывезут.
– Как раз хотела об этом спросить. Страшно выходить к родственникам, если операция неудачна и не удалось спасти жизнь?
– Для меня нет ничего более неприятного в этой работе и, если хотите, страшного. Сейчас, к счастью, эти случаи все реже бывают. А когда я начинал в 1987 году, умирал каждый четвертый ребенок. У нас была летальность 25%. И это было просто ужасно: практически каждый день ты должен был родителям объявлять о смерти их ребенка.
– Агрессия бывает?
– Разные реакции бывали. Отчаяние, ужас, люди не верили, истерики…
– А какая самая запоминающаяся реакция?
– Была цыганская семья. Когда умер ребенок, то мы два дня прятались по всей клинике, потому что была неадекватная реакция… Обкуренные какие-то, пьяные молодые люди ходили с обрезами и всем рассказывали, что сейчас они встретят хирурга и его застрелят на месте или зарежут. Пока не подключилась милиция и не убрала их.
– Какая сейчас летальность у маленьких пациентов?
– На обычных, стандартных операциях – около 1%. Но есть очень сложные…
– А было 25?
– Да. Технологии. Мы каждые пять лет переживаем техническую революцию в кардиохирургии.
– У вас уже было три предложения из зарубежных клиник взять всю свою команду и переехать работать на хорошие контракты в Европу. Но вы не согласились.
– Предложения поступают и сейчас.
– То есть предложений больше.
– Я буквально завтра еду в одну из среднеазиатских стран оперировать детей. И думаю, что выслушаю еще одно предложение…
– В каких странах вам предлагали остаться?
– Честно признаться – практически во всех странах, где мне пришлось оперировать.
– Давайте перечислим.
– Первая страна, куда меня судьба занесла еще в 1999 году, – Египет. Потом был Ирак. Потом Косово. Потом я оперировал в Молдове. Потом в Беларуси. Я очень много оперировал в Грузии. И там предлагали любые условия. Хозяйка клиники говорила: «Я тебе покупаю виллу. Ты приезжаешь…» Я говорю: «Я не знаю грузинского». – «Не надо ничего. Ты приходишь только на основной этап операции. Ты больше ничего не делаешь. Только приходишь, оперируешь – и у тебя вилла, яхта. Ты дальше отдыхаешь».
Когда мы приехали и сделали 10 операций, они посчитали, что мы оперируем в два раза экономичнее, чем москвичи, которые приезжали до этого. И они отказались от москвичей, и в следующие два года оперировали только мы. Я даже стал почетным гражданином города Батуми благодаря этим операциям. И это были абсолютно конкретные предложения. Мы много оперировали в Азербайджане. Оперировать в Европе официально мы не можем.
– Почему?
– Потому что там нострификация диплома нужна была до последнего времени.
– Серьезно?
– Да. Но, скажем, в Польше – пожалуйста, хоть сегодня приезжай. Уже дипломы не нужны. В Чехию, Словакию хоть сегодня приезжай.
– Потому что они понимают, что им нужно к себе забрать лучших. Условия вам предлагали лучше, чем в Украине вы имеете?
– Ну, [условия в Украине] хуже просто некуда. Я последний раз был в Грузии, наверное, год или полтора назад. Я за три операции, сделанных там в частной клинике, получил свою годовую зарплату в Украине.
– Прекрасно.
– Здесь я провожу почти 700 операций в год. А там я сделал три операции – и за раз получил официально, с налогами, зарплату, как за целый год работы в Украине.
– Так почему вы не переезжаете?
– Не хочу.
– Почему?
– Помните профессора Преображенского? «Вы не любите немецких детей?» – «Не хочу». – «Купите журнал». – «Не хочу». – «Вам жалко полтинник?» – «Не жалко. Не хочу». Где родился, там и пригодился. Может быть, звучит немножко примитивно, но я не представляю себе отъезд в другую страну и нормальное там существование с осознанием того, что здесь ты оставил умирать сотни людей, у которых, может быть, и была бы надежда, если бы ты их оперировал, а ты уехал, забрал команду и забрал надежду у сотен и тысяч детей. У нас в институте оперируется 6200 операций в год. Это только операции. Ну, уедем мы, уедет команда, уедет костяк – сколько тысяч украинцев погибнет?
– Вы создали одну из лучших клиник в Украине – киевский Институт сердца. Мы уже затронули вопрос кадров. У вас есть проблемы с персоналом?
– Есть. Мы государственная больница – государственные зарплаты. Средняя зарплата сестры – 5,5 тыс. Зарплата врача – 7,4 тыс. Это притом, что очень много работает докторов наук, кандидатов наук – люди заслуженные…
– И это Киев, это лучшее заведение.
– Да, к сожалению.
Могу сказать, что сотрудники нашего института, кто постоянно работают с «ковидными» пациентами, получают где-то 2–3 тыс. грн доплат в месяц. Но это не обещанные 300-процентные надбавки. Получается, всех обманули
– Какая зарплата у оперирующего врача?
– У хирурга с 15-летним стажем официальная зарплата 7 тыс. грн.
– Ну а доплаты какие-то есть?
– Откуда? Нет никаких доплат. У меня есть доплаты как у директора, за заслуженного врача, за доктора наук, за членкора, как заведующего кафедрой, у меня какая-то выслуга лет идет… У меня еще какие-то надбавки к моему окладу. А доктор, который оперирует каждый день, кандидат наук, – он получает 7,4 тыс. грн в месяц, отвечая за десятки и сотни жизней человеческих и имея высочайшую квалификацию.
– Это кошмар.
– Это реалии. Да, вот мы разговаривали с министром вчера на эту тему на заседании медицинского совета. Это катастрофа, да. И даже из нашей клиники, очень успешной, очень много людей едут за рубеж. Сегодня я не могу назвать ни одной европейской страны, где бы ни работали наши бывшие сотрудники.
– И на лучших позициях?
– Ну о чем вы говорите?
– Ценятся.
– Даже не обсуждается. Они настолько быстро находят себе работу… Многие уже заведуют отделениями.
– Прекрасно. А хотя бы тем, кто с «ковидными» больными работает, доплачивают 300%? Сколько получает хирург, который имеет отношение к «ковидным» больным?
– Могу сказать, что те, кто постоянно работают с «ковидными», получают доплаты где-то 2–3 тыс. грн в месяц.
– Это же не 300%.
– Абсолютно не 300%.
– А почему так происходит?
– Потому что есть постановление Кабмина, которое регламентирует выплаты по работе с «ковидными» больными в научных учреждениях. И это не только нас касается. Мы не перешли на финансирование Национальной службы здоровья Украины, и никакие 300% мы не можем получать. Нам дают 50% надбавку к зарплате врачу, 40% – сестрам, 30% – санитаркам. Все. И за эти деньги люди сегодня работают с «ковидными» больными. На сегодня в институте около 50 «ковидных» больных. Из них где-то 20 лежат в реанимации в тяжелом состоянии.
– Подождите. Где же эти 300%? Обещали. Президент об этом говорил, министр об этом говорил. Это, получается, обман?
– Получается, обман. Всех обманули.
– Как так произошло? Почему решение не выполняется?
– Не знаю. Мы с бухгалтером несколько раз садились, обсуждали этот вопрос, писали письма в Минздрав, писали письма в правительство. «Нет из «ковидного» фонда денег для вас. НСЗУ вас не финансирует»…
– Именно Институт сердца?
– Нет, все научные учреждения и те, кто не перешел на казенные предприятия. Поэтому нам не положено. Это грустная история на самом деле. Мы сейчас пытаемся с министром как-то решить этот вопрос. Потому что люди, которые сутками в противочумных костюмах, в очках, в шапочках, в масках, в двух перчатках работают с «ковидными» больными, постоянно имея риск заражения… Можно на энтузиазме проработать неделю, две, месяц. Но когда это длится уже девятый месяц и им никто не платит… Из семи сестер осталось две, потому что пять уже с COVID, кто в реанимации, кто в отделении… Понимаете? Сейчас в реанимации осталось две сестры. Потому что четыре еще заболели. Они принесли [болезнь] и домой – еще их родители болеют. И я этих двоих уговариваю никуда не уходить, потому что, если вы уйдете, 20 пациентов в реанимации останутся вообще без присмотра, некому будет даже капельницу поставить. Уже я анестезиологов подключил – все дежурят. Молодые хирурги уже дежурят в реанимации. Хотя им не положено. Им положено два дежурства в месяц. Они дежурят сегодня по шесть дежурств в месяц. И без оплаты абсолютно. Просто на энтузиазме. Потому что понимают, что, если они не придут на это дежурство, больше некому.
– Борис Михайлович, я часто вас цитирую на эфирах. Хотя вы мне не говорили, что можно это озвучивать. Но просто меня это так, честно говоря, тронуло… Вы мне рассказали, что в начале пандемии собрали свой коллектив и сказали: «Если кто-то из вас заболеет коронавирусом, если кто-то из ваших родных заболеет коронавирусом, я обязуюсь, что мы будем лечить вас или ваших родных бесплатно».
– Так и есть. Все родственники наших сотрудников, у которых тяжелое состояние, бесплатно лечатся в Институте сердца. Точно так же, как и наши сотрудники.
– Многие главврачи или руководители больниц сделали как вы?
– Не знаю. Я не спрашивал.
– Из персонала у вас сейчас много болеет?
– Сейчас в реанимации лежит человек, с которым я проработал 34 года. Она старше меня. Кардиолог. В крайне тяжелом состоянии. И мы вот ходим к ней каждый день. Пока не можем вывести ее из тяжелого состояния. И это просто трагедия нашей жизни. Потому что она работала с «ковидными» больными все это время. И она уже немолодой человек. Она, знаете, основоположник всей нашей кардиологии в институте. И она сейчас лежит в тяжелом состоянии. Мы потеряли несколько родственников. В нашей клинике умерло несколько очень известных людей, профессоров, заведующих кафедр… Мы не смогли их спасти, очень тяжело протекала болезнь.
– Прошло уже девять месяцев с начала пандемии. Вирус стал менее агрессивным?
– Думаю, что стал более агрессивным. Мы видим, что начали болеть молодые очень серьезно. Очень агрессивно идет воспаление, с которым мы практически не можем справиться. Последнее время мы уже немножко приобрели опыт. Уже быстрее реагируем на все, уже понимаем, какие этапы заболевания, когда включается так называемый каскад…
– Когда все сыпется в организме?
– Да, когда организм начинает своим иммунитетом бороться со своими же легкими. Мы сейчас некоторым больным вводим такие дозы преднизолона и гормонов, которые мы обычно вводим пациентам, у которых начинается отторжение пересаженных органов. Это так называемая пульс-терапия. Мы многим больным сегодня проводим тромболизис, то есть методики, которые никогда не использовались вообще для лечения воспалительных процессов в легких. То есть мы сегодня включили в свой лечебный репертуар, если хотите, такие методики, которые, во-первых, не каждая клиника может себе позволить. Во-вторых, это агрессивные и опасные методики лечения, которые могут вызвать серьезные осложнения, но у нас выхода другого нет. Мы только так спасаем. Нашу сотрудницу мы спасаем: уже дважды тромболизис провели и чудом вытащили буквально из критического состояния.
– Борис Михайлович, что нового вы узнали о коронавирусе на практике?
– Что нужно знать? Течение заболевания зависит во многом от первоначальной дозы поступления вируса в организм. Поэтому ношение маски очень важно, что ее минимизировать. Даже если вы заразились маленькой дозой, вам легче будет перенести. Заразитесь большой дозой – будет сложнее. Второе, что нужно знать, что ПЦР не определяет сам вирус, а определяет белки, которые продуцирует этот вирус внутри клетки. Поэтому зачастую, когда мы делаем ПЦР, вируса в организме уже может не быть. Если мы делаем ПЦР на пятые – седьмые сутки, то мы опаздываем очень сильно. Мы дальше опаздываем с лечением и методиками, которые должны присутствовать. Третье: мы должны знать, что начиная где-то с 10-х суток включается во многих случаях цитокиновый каскад, или, условно говоря, аутоиммунный процесс (для специалистов, может быть, немножко резанет слух, но я говорю для неврачей) – очень сильная воспалительная реакция, которая убивает легочную ткань.
Легкие – одна из самых тонких структур в организме человека. Любое воспаление тут же вызывает разрушение альвеолы – она слипается и замещается рубцом. И даже если человек переболел и ушло воспаление, какая-то часть легких остается в рубце и не восстанавливает свою воздушность, не восстанавливает свою способность к газообмену. У нас сейчас есть молодой человек, который с трудом пережил два месяца в реанимации. Олимпийский чемпион, спортсмен, молодой, 30 с небольшим. У него такое повреждение легких, что даже после того, как мы вылечили пневмонию, мы его ставим в лист ожидания на трансплантацию легких. У него осталось очень мало жизнеспособной легочной ткани. Поэтому с этим шутить не надо. Маски носить, вовремя реагировать. Даже если у вас первые семь – восемь дней все идет гладко, расслабляться не надо. Надо следить за своими анализами, за C-реактивным белком, за цитокиновым каскадом. И если наступает кризис, его надо лечить по всем правилам: гормоны, антикоагулянты…
Я сейчас не буду все перечислять, чтобы люди не кинулись в аптеки покупать ненужные препараты. Это должны знать только врачи. Слава Богу, у нас благодаря Ольге Голубовской есть нормальный протокол, который мы все время корректируем в зависимости от того, что появляется нового. Сегодня такая картина по COVID у нас.
Оборудовать больницы кислородными станциями стали только сейчас, почти при 20 тыс. умерших. А надо было делать это в апреле
– Когда пандемия закончится?
– Любая пандемия заканчивается тогда, когда набирается критическая масса переболевших. В том случае, если у них остается стойкий иммунитет. Чего не происходит при COVID. Стойкого иммунитета у переболевших нет. Поэтому если говорить о COVID, пандемия закончится только тогда, когда наберется критическая масса вакцинированных. Хотя бы 60–70% населения должно быть вакцинировано. Тогда можно говорить о победе над COVID. Поэтому чем быстрее Украина закупит вакцины: китайские, американские, российские – не важно какие, лишь бы они были действенными… Некоторые, не зная этой кухни, говорят: «Только не российскую». Но мы же не знаем ее действия. Мы не знаем ее состав, мы не знаем, как она работает. Сделайте исследования. Возьмите три – пять вакцин разных стран, проведите исследования, посмотрите на результат. И примите решение, какая лучше. И ее используйте.
– Вы сейчас логично говорите, но дело в том, что, если логично дальше развивать, российская вакцина даже третью фазу исследований не прошла. Они же закрыли все данные. Российская вакцина вызывает большие сомнения…
– Мы, к сожалению, не знаем данных ни по одной вакцине.
– Вот я у вас хотела спросить: вы лично будете вакцинироваться? И какой вакциной?
– Я буду вакцинироваться первой официально зарегистрированной вакциной, которая появится в Украине. Я буду в числе первых. Мы вчера обсуждали это с Максимом Владимировичем Степановым. Первые вакцины могут появиться уже к концу января – они будут направлены медикам в те клиники, которые обслуживают «ковидных» больных.
– В конце января?
– Пока это большой секрет, скажем так. Но мы очень надеемся, что уже к концу января мы можем что-то получить.
– Хорошо. Борьбу с коронавирусом в Украине власть провалила?
– Полностью.
– Что именно было сделано не так? Начиная с весны.
– Практически все. Было понятно уже, глядя на Китай и на происходящее вокруг Украины. Все страны уже имели коронавирус – было понятно, что нужно создавать какую-то структуру. Если нет санстанции, которую убили в 2017 году, нужно было создать структуру на базе СНБО, которая бы включала в себя межведомственную комиссию, оценивающую все факторы риска, взвешивающую кадровый потенциал. У нас же нет кадров сегодня, у нас инфекционистов нет. У нас инфекционные больницы хотели закрыть в начале года. COVID их спас.
– Хоть кого-то COVID спас.
– Оценить запасы кислорода, оценить инфраструктуру, оценить наличие мониторов, дыхательных аппаратов, трубок, расходки, кроватей, простыней, разовых масок и всего остального. Это кто-то должен был хотя бы оценить. У нас уже к апрелю КПИ сделал математическую модель, и было понятно, что это будет так, а осенью – вот так. Мы это знали. Украинские ученые об этом доложили. Но при этом не было сделано ровным счетом ничего.
– Почему в больницах сейчас массово не хватает кислорода, кислородных концентраторов и станций? Почему этого не было сделано? И насколько это вообще тяжело сделать?
– Чтобы это было сделано, кто-то должен был провести анализ, в каких областях, в каких районах есть кислород. Было понятно, что эти больные потребуют большое количество кислорода. Даже в нашей больнице увеличилось потребление кислорода в два раза. Сегодня возьмите Ровенскую область: из Львова в Ровно баллонами возят кислород. Представьте, какие расходы на бензин, какие опасности по дороге… Представляете, если баллон рванет, произойдет авария? И потом это же сжатый кислород. Это абсолютно неэффективно. Уже весь мир работает на жидком кислороде или на собственных генераторах. Кислородный генератор на большую больницу стоит аж 3 млн грн.
– Слушайте, деньги в «ковидном» фонде есть. Почему это сейчас не делать?
– Сейчас начали делать. Когда уже под 20 тыс. умерших, начали делать. А ведь это надо было делать в апреле.
– Локдаун надо вводить? Учитывая то, что на Майдане сейчас, судя по всему, начало голодных бунтов… Вышли предприниматели…
– Отвечая на этот вопрос, во мне борется медик и администратор, который понимает, чем может закончиться локдаун. Я думаю, что власть, принимая решение, точно так же, как и я, не может однозначно ответить на этот вопрос. С одной стороны, как медик, я понимаю, что нужно… Я вернулся из Турции – там жесточайший локдаун. В субботу и воскресенье никто не имеет права из дома выйти. Пустые улицы. Ни одной машины. Чтобы выехать в аэропорт, водитель получает специальное разрешение. За хлебом люди не могут выйти. Без масок в будние дни никто даже не думает появиться – страшные штрафы.
– Но там государство оказывает финансовую поддержку.
– Закрыты все рестораны, все кафе и так далее. Но они не умирают с голоду – они получают какие-то дотации. Если у нас произойдет полный локдаун, представляете, сколько предприятий [остановятся], какая будет безработица? Люди и так еле-еле сводили концы с концами. Что делать? Я не представляю, как люди на протяжении восьми месяцев сводили свой бизнес. Если сегодня хотя бы на две недели оставить их без работы – голод. Ну, реально голод. У кого остались какие-то запасы?
– Все, что было под подушкой, весной съели.
– Может, процентов 15–20 населения такие запасы имеют. Ну 30%. А остальным что делать? А по районным центрам?
– Что бы вы делали в ситуации, в которой находится Украина сейчас?
– Я бы мониторил каждый день загруженность клиник. И принимал бы решение не наперед, не сегодня – на январь… Это нелогично. Мы не знаем, какая будет ситуация в середине января. Поэтому я бы не делал заявлений, что 8-го или 12 января у нас будет месячный локдаун. Откуда вы знаете, что будет 8 января? Может быть, у вас будет 5 тыс. заболевших и 40-процентная заполненность больниц. Зачем тогда локдаун? Я бы мониторил и принимал бы решения, исходя только из заполненности больниц. И максимально ускорил бы доставку вакцины в Украину. И начал бы вакцинировать все группы риска.
– Британия, которая первой начала вакцинацию, с сегодняшнего дня закрыла все на локдаун, ничего не работает.
– Наверное, Британия может себе позволить, находясь в десятке лучших экономик мира и 13% бюджета тратя на медицину.
– Кстати, по поводу бюджета. Достаточно ли в бюджете на 2021 год заложено на медицину?
– Если отложить все эмоции, есть закон, по которому на медицину не может быть выделено меньше 5%. А сегодня выделяют 4%. Это нарушение закона. Сегодня любой доктор может подать в суд на Верховную Раду – и выиграть.
– Какую хорошую идею вы дали!
– Нельзя жить в государстве, где Верховная Рада нарушает закон. Аморально просто. Если разбирать по пунктам, предполагается повышение зарплаты медикам на 9%. А инфляция предполагается на уровне 7,5%, если вы знаете. То есть повышения зарплаты медикам не будет вообще никакого – остается 1,5%. Это насмешка. Даже не знаю, как назвать мягче, чтобы никого не обидеть. На инфекционные больницы хватит только на первый квартал. Я не знаю, как они будут дальше. Я не понимаю.
– Может, думают, что эпидемия закончится за первый квартал.
– У нас просто катастрофа с интернами. На интернов заложен бюджет, которого хватит только на первый квартал. Потом интерны в свободное плавание уйдут… А это тысячи людей – молодых врачей, у которых по три года интернатура. Это же не просто так. На какие деньги они будут жить? У нас катастрофа с медицинским обучением, и с постдипломным в том числе. У нас катастрофа с подготовкой кадров по специальности «громадське здоров’я». Это те же санитарные врачи, которые выпускались раньше. Их всего каких-то пару десятков в год набрано. У нас катастрофа с оборудованием, потому что во многих клиниках мы используем оборудование, которому уже по 10–15, а то и по 30 лет.
У нас сейчас выстрелит огромная задолженность по общехирургическим операциям. Потому что мы почти год откладывали плановые операции. Они же никуда не делись. Просто эти же больные придут в два-три раза более тяжелыми, в запущенном состоянии.
– Те, кто доживут.
– Те, кто доживут. Поэтому я даже не знаю, как это назвать. Но все, что касается медицины, – просто катастрофические цифры. Мы вчера разбирали по пунктам – катастрофические цифры. Я думаю, что можно было бы не дать на какие-то развлекательные вещи, на чем угодно можно было сэкономить, но, пережив такой год с COVID, надо было понять, что на медицину мы должны выделить хотя бы то, что положено.
Сегодня обсуждаются как минимум две кандидатуры на пост министра здравоохранения
– Владимиру Александровичу вы как-то доносили эту мысль?
– У меня нет прямого контакта. Меня Владимир Александрович не приглашает на беседу. Максимум с кем я общаюсь – с министром Степановым. Я вижу его адекватную реакцию на происходящее, его заявления и так далее. Мы его в связи с этим очень поддерживаем и в средствах массовой информации, и своими постами, и везде. Мы стараемся его удержать. Тем более что сейчас пошла информация, что вместо него хотят назначить каких-то людей, абсолютно не тех, кто будет бороться за нашу медицину и за наших пациентов. Поэтому для нас это очень острый вопрос сейчас.
– А кого хотят назначить?
– Как минимум двух кандидатов обсуждают сегодня. И ни один, ни второй, думаю, не готов бороться за наших пациентов.
– Вы назовете фамилии?
– Не хочу.
– Вы недавно на эфире сказали, что умерших пациентов с COVID хоронят в пластиковых пакетах без панихид, без других процедур. Тела реально так заразны?
– У каждого человека в организме есть биологические жидкости: слизь, мокрота и так далее. И какое-то время там сохраняется биологический материал. Если человек умер от пневмонии, то у него, кроме вируса, могут быть еще и пневмококки, и синегнойная палочка, и все что угодно. Если человек пролежал в реанимации с пневмонией много дней, то он априори имеет бактериальную, грибковую, вирусную флору, которая может быть опасна для людей. Так что у нас есть строгие правила по поводу вскрытия. Мы большинство людей с COVID не вскрываем. И вскрывают их сегодня только в судебно-медицинских учреждениях в случае необходимости, в случае каких-то сомнений. Так что есть определенные прописанные правила по поводу вскрытия таких пациентов и их захоронения.
– Я помню, что при министре здравоохранения Супрун была вопиющая ситуация: когда вашу клинику пытались штурмовать, титушки приходили, с вами министерство не хотело переподписывать контракт…
– Целый год.
– Мы тогда сидели в вашем кабинете. Дмитрий Гордон был, Михаил Радуцкий, Анатолий Макаренко. Потом Виталий Кличко приехал. Очень-очень много не только простых людей, но и известных откликнулись и приехали вас поддержать. Потому что была ситуация, выходящая за рамки понимания и здравого смысла. На сегодняшний день все нормально? Наконец-то можно работать? Или какие-то процессы продолжаются?
– Да, сейчас нормализовалось. После ухода Супрун, через пару недель, мне подписали контракт. Клиника работает в плановом режиме. Если не считать COVID, конечно. Продолжают защищаться диссертации, идет наука. Как видите, сделали семь пересадок. У нас есть наши научные и практические достижения, которыми мы можем гордиться. Так что я считаю, что в тех условиях, в которых мы сегодня работаем, мы очень неплохо продержались. Очень неплохо. Я буквально вчера благодарил на пятиминутке весь коллектив за то, что они так самоотверженно держатся. Я удивляюсь вообще их терпению и чувству ответственности. Потому что когда вместо семи сестер на дежурство в реанимацию с «ковидными» больными должны выйти две и выполнить работу семерых и никто не ропщет, зная, что они следующие… Они могут точно так же заразиться и принести это домой, но они не увольняются и выходят – у меня просто слезы на глазах.
Могу сказать, что у нас здоровая атмосфера, мы сохранили свое достоинство, если хотите. Мы очень достойно пережили эти испытания, мы не дали слабину, не струсили, не убежали. Мы по своей инициативе взяли на себя функцию клиники, которая обслуживает «ковидных» пациентов. Мы могли бы отказаться: мы высокоспециализированная клиника, но мы первыми в апреле начали принимать больных. Сами. Нас даже не внесли в список официально. Мы понимали, что если мы не будем этого делать, то у других клиник гораздо меньше возможностей спасать. Так что сегодня я горжусь своим коллективом. В этом плане мы на высоте.
– Борис Михайлович, какая главная проблема украинской медицины сегодня?
– Я бы не выделял одну проблему. Если говорить о главной проблеме глобально, отсутствие у власти понимания социального значения медицины. Причем это не первая власть, которая не воспринимает медицину как одну из самых важных отраслей в стране. Нас опять финансируют по остаточному принципу, нас децентрализовали. Ну как можно децентрализовать медицину в 40-миллионной стране, когда областные больницы предоставлены сами себе, они не подчиняются министерству, они работают на своем бюджете, районные больницы – на своем. Министр не имеет влияния на главврача. Не может сегодня министр снять ни одного главврача. Вы знаете? В областной больнице начнет косячить кто-то, а министр даже не может его снять с работы. Потому что его назначает местная власть.
Ольга Анатольевна Голубовская – главный специалист по COVID-19. Она разрабатывала протоколы лечения, боролась за их внедрение и чуть ли не свою жизнь положила на алтарь борьбы с коронавирусом
Нужны какие-то меры по борьбе с COVID, вертикаль управленческая, чтобы сверху спустить какие-то распоряжения – а они туда не доходят. Потому что финансирование не оттуда, назначение руководителей не оттуда, какие-то организационные вопросы вообще не оттуда. Они сами себе предоставлены. Как может быть такое в стране? Представьте себе армию децентрализованную или полицию, когда в каждом районе есть своя армия, которая не подчиняется главнокомандующему.
– А почему так происходит? Каждый человек, из любой власти и с любым количеством денег, болеет. Неужели до них не доходит, что нужно сделать в Украине такую медицину, чтобы не приходилось уезжать за границу?
– Не доходит.
– И то не всегда можешь улететь – времени, бывает, нет. Или сейчас, во время COVID, даже не вылетишь.
– Люди, в последнее время приходящие к власти, во-первых, не любят эту страну. Они ее рассматривают исключительно как свой собственный бизнес-проект. Они здесь зарабатывают деньги. Они разве здесь отдыхают? Нет. Лечатся? Нет. Их дети здесь живут? Нет. Это плацдарм, это сафари.
– Хорошо сказали. Сафари.
– Для приезжих это сафари… Эти наблюдательные советы, все эти интуристы, которые сегодня наводнили Украину, включая министров. Они же сюда приезжают на сафари: на крупную дичь поохотиться – и уехать.
– Вот вы хорошо сказали определение того, кто реально украинский патриот-политик, а кто притворяется: посмотреть, где он лечится, где живут и учатся его дети, где он отдыхает и еще во что он одевается и кого он поддерживает своими покупками.
– Все очень красиво сейчас одеваются в вышиванки, начали говорить на галицком диалекте красиво, все подражают, все изображают из себя патриотов. А на самом деле патриотизм же далеко не в том, чтобы разрушить советский памятник или сбить где-то звезду и повесить туда чего-то еще. Не в этом же патриотизм. Патриотизм в том, чтобы что-то создать в этой стране. Что ты создал в этой стране? Что ты построил в этой стране? Кого ты спас в этой стране? Кого ты научил в этой стране? Что ты оставил? И люди, которые сегодня управляют, в большинстве своем здесь ничего не хотят создавать.
– Возможно в Украине создать высококлассную медицину?
– Пока еще. Еще год-два. Пока не уйдет мое поколение – я думаю, еще можно что-то создавать.
– Ресурс докторов.
– Это люди с определенным менталитетом. Я бы так сказал: люди, воспитанные в служении отечеству, без лишнего пафоса. Потому что поколение лет 15 после нас еще имеют какое-то представление о служении отечеству. Молодежь, которая сегодня приходит, говорит: «Если за это не платят, зачем нам тут работать?» И они правы.
– Уже скоро Новый год. И лично для меня человек года – это медик, это доктор, который в 2020-м спасал, спасает и будет спасать жизни людей. И он в первую очередь на передовой. Назовите ваш личный рейтинг в Украине: кто главные специалисты по COVID?
– Несомненно, Ольга Анатольевна Голубовская – главный специалист, которая разрабатывала протоколы лечения, которая боролась за их внедрение, которая приложила неимоверные усилия для того, чтобы распространить эту информацию и организовать по всем клиникам. И которая совсем недавно была в крайне тяжелом состоянии в одной из клиник, потому что сама в конечном итоге заразилась COVID. И мы ее чуть не потеряли. Она была очень тяжелая.
– Настолько?
– Да, настолько. Я бы сегодня человеком года назвал Ольгу Голубовскую, которая чуть ли не свою жизнь положила на алтарь борьбы с COVID.
– Спасибо большое, Борис Михайлович.
– Пожалуйста. Приходите. Всегда рады.
– Лучше просто в гости.
ВІДЕО